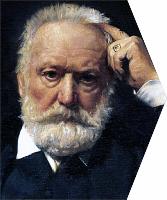
В эту эпоху, на вид такую холодную, уже чувствовался революционный трепет. Веяния, вылетавшие из глубины 1789 и 1792 годов, носились в воздухе. Молодежь — да простят нам это выражение — начинала, линяя, сбрасывать кожу. Перерождение совершалось незаметно, вместе со временем. Стрелка, двигающаяся по циферблату, двигается и в сердцах людей. Каждый делал вперед шаг, который должен был сделать. Роялисты становились либералами, либералы — демократами.
Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячью отливов. Особенность отливов состоит в том, что они производят смешение; благодаря этому появились весьма странные сочетания идей. В одно и то же время преклонялись пред Наполеоном и свободой. Мы строго придерживаемся истории. Таковы были миражи того времени. У взглядов есть свои фазы. Вольтерианскому роялизму — явлению очень странному — был как раз на пару не менее странный бонапартистский либерализм. Другие кружки были серьезнее. Там доискивались первопричин, стремились к справедливости. Там увлекались абсолютным, которое, по самой неподвижности своей, направляет умы ввысь и заставляет их носиться в беспредельном. Ничто так не пробуждает мечты, как догмат, и ничто так не благоприятствует будущему, как мечта. Сегодня — утопия, завтра — плоть и кровь.
Передовые взгляды пользовались потайными ходами. А начало таинственности грозило "существующему порядку", подозрительному и скрытному. Признак в высшей степени революционный. Тайный умысел власти встречается в подкопе с тайным умыслом народа. Назревающие возмущения подают реплику подготовляющимся государственным переворотам.
В то время во Франции еще не было серьезных подпольных организаций, подобных немецкому тугенбунду* или итальянскому карбонаризму*, но то тут, то там уже начиналась невидимая работа. Кугурда зарождалась в Эксе, в Париже, в числе других организаций такого рода существовало общество "друзей Абецеды" — азбуки.
Что же такое друзья азбуки? Это было общество, по-видимому, поставившее себе целью образование детей, а на самом деле наставлявшее взрослых. Члены его назывались друзьями "Абецеды". А под "Абеце" подразумевалась не азбука, a l′abaissé {Латинский алфавит начинается с А, В, С — отсюда созвучие "абэссе" (abaissé) — угнетенный, приниженный.}, то есть униженный народ, который хотели поднять. Восстановить права народа было целью этой тайной организации.
Напрасно кто-нибудь стал бы смеяться над этой игрой слов. То, что скрывалось под маской каламбура, зачастую играло немаловажную роль в политике.
Друзья "Абецеды" были немногочисленны. Это тайное общество еще только зарождалось. Мы бы даже назвали его не обществом, а кружком, если бы кружки могли создавать героев. Члены организации собирались в Париже в двух местах: около рынка, в кабачке "Коринф", о котором речь впереди, и около Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе, так называемом "Кафе Мюзен", в настоящее время не существующем. Первое из этих мест прилегало к кварталу рабочих, второе — к кварталу студентов.
Тайные собрания общества "Друзей Абецеды" происходили обыкновенно в задней комнате кафе Мюзен.
Эта комната, довольно отдаленная от общей залы и соединявшаяся с ней очень длинным коридором, имела два окна, с выходом по потайной лестнице на улицу Де-Грэ. Здесь кутили, пили, играли, смеялись, громко говорили о разных пустяках, а шепотом кое о чем другом. К стене был прибита старая карта Франции времен Республики — обстоятельств вполне достаточное, чтобы возбудить подозрение полицейского агента.
Друзьями "Абецеды" были по большей части студенты, находившиеся в дружеском согласии кое с кем из рабочих. Мы назовем имена самых главных из них. Они в некотором отношении принадлежат истории: Анжолрас, Комбферр, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Багорель, Легль, Жан Грантэр.
Молодые люди были так дружны между собою, что составляли как бы одну семью. Все они, кроме Легля, были южане.
Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимой глубине, которая разверзается позади сегодняшнего нашего дня.
В этом месте нашей драмы будет, пожалуй, не лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак трагического предприятия.
Анжолрас, которого мы назвали первым, — и не без причины, как увидят впоследствии, — был единственный сын богатых родителей.
Это был прелестный юноша, который мог быть грозным. Прекрасный, как ангел, он походил на Антиноя*, но на Антиноя сурового. Судя по его задумчивому взгляду, казалось, что он в какой-нибудь предыдущей жизни уже пережил революционный апокалипсис. Он хранил его традицию как очевидец и знал все его мельчайшие подробности. У него была натура первосвященника и воина, не подходящая для юноши. С точки зрения того времени это был воин демократии и жрец идеала, если подняться над современностью.
У него был глубокий взгляд, красноватые веки, полная, легко выражающая презрение нижняя губа и высокий лоб. Высокий лоб на лице — то же, что обширное небо на горизонте. Подобно некоторым, рано прославившимся молодым людям конца прошлого и начала нынешнего столетия, он казался моложе своих лет и был свеж, как молодая девушка, хотя порой бледность покрывала его щеки. Уже мужчина, он смотрелся мальчиком. Ему было двадцать два года, а на вид казалось семнадцать. Всегда серьезный, он как будто не знал, что на свете есть существо, которое называется женщиной. У него было только одно страстное стремление — к справедливости, один замысел — ниспровергнуть препятствие. На Авентинском холме он был бы Гракхом*, в Конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал роз, не знал весны, не слышал пения птиц. Обнаженная шея Эваднеи так же мало взволновала бы его, как и Аристигона*, для него, как для Гармодия, цветы были годны лишь для того, чтобы скрывать в них меч. Он был суров к наслаждению. Перед всем, что было не республикой, он целомудренно опускал глаза. Это был человек из мрамора, влюбленный в свободу. Речь его была сурово вдохновенна и звучала, как гимн. Он неожиданно распускал крылья. Горе женщине, которая задумала бы завести с ним интрижку. Если бы какая-нибудь гризетка с площади Камбре или улицы Сен-Жан де-Бове, увидев это юное лицо, эту фигуру пажа, эти длинные белокурые ресницы, эти голубые глаза, развевающиеся по ветру волосы, розовые щеки, целомудренные губы, великолепные зубы, пленилась этой утренней зарей и решила испробовать на Анжолрасе действие своих чар, его изумленный и строгий взгляд мгновенно показал бы ей бездну и дал бы ей понять разницу между любезным херувимом Бомарше и грозным херувимом Езекииля.
Рядом с Анжолрасом, который воплощал логику революции, стоял Комбферр, воплощавший ее философию. Между логикой и философией революции та разница, что логика может привести к войне, тогда как философия приводит только к миру. Комбферр дополнял и исправлял Анжолраса. Он был не так возвышен, но зато шире. Он хотел, чтобы умы развивались под влиянием великих принципов общих идей. "Да! Революция, но и цивилизация с нею", — говорил он и над отвесной горой открывал обширный голубой небосклон. А потому во всех предположениях Комбферра было что-то доступное и практичное. Революция с Комбферром во главе была бы не так сурова, как с Анжолрасом. Анжолрас воплощал ее божественное право, Комбферр — право естественное. Первый примыкал к Робеспьеру, второй к Кондорсе. Комбферр жил полнее, чем Анжолрас, и жил, как все. Если бы эти два молодых человека сыграли роль в истории, один из них олицетворил бы собою справедливость, другой — мудрость. Анжолрас был мужественнее, Комбферр — гуманнее. Homo et vir {Человек и муж (лат.).}, — эти два слова как нельзя лучше отражают их характеры. Мягкость Комбферра, так же как и строгость Анжолраса, была следствием его душевной чистоты. Он любил слово "гражданин", но ставил еще выше слово "человек". Он охотно сказал бы: "Hombre" вместе с испанцами. Он читал все, ходил в театры, слушал публичные лекции, изучал по Араго* поляризацию света, восторгался лекцией Жоффруа Сент-Илера, объяснившего двойную функцию сонной артерии; знал все, что делается на свете, следил шаг за шагом за наукой, сличал Сен-Симона* с Фурье*, изучал иероглифы, разбирал камни и толковал о геологии, рисовал на память шелкопряда, указывал на ошибки в академическом словаре, изучал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от категоричных утверждений и отрицаний, включая привидения и чудеса, перелистывал комплекты "Монитора" и много думал. Он находил, что будущее народа находится в руках школьного учителя, и потому его заботили вопросы образования. Он хотел, чтобы общество неутомимо работало над поднятием умственного и нравственного уровня масс, над популяризацией науки и идей и развитием молодежи. Но он в то же время боялся, как бы современная скудость методов, ограниченность литературной точки зрения, довольствующейся лишь двумя или тремя классическими веками, тиранический догматизм официальных педантов, схоластические предрассудки и рутина не превратили в конце концов наши коллежи в садки для искусственного размножения устриц. Он был ученый, турист, любил точность, обладал сведениями по всем отраслям, усидчиво работал и вместе с тем любил мечтать "до химер", по выражению его друзей. Он верил во все эти химеры: в железные дороги, устранение боли при хирургических операциях, фотографические снимки, электрический телеграф, управление воздушными шарами. Его не пугали крепости, воздвигнутые всюду против рода человеческого суевериями, деспотизмому и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, твердо убежденных что наука изменит все. Анжолрас был вождем, Комбферр — вожаком С одним хорошо было биться, за другим — идти. Это не значит, что Комбферр был неспособен к битве. Нет, он не отказался бы бороться с препятствием, но предпочитал другое. Ему хотелось бы при помощи распространения позитивных законов и аксиом постепенно вести человеческий род по предназначенному ему пути. И если бы ему пришлось выбирать между рассветом и пожаром, он выбрал бы рассвет конечно, и пожар может произвести зарю, но почему же не подождать восхода солнца. Вулкан освещает, но свет зари еще лучше. Комбферр предпочитал белизну прекрасного сверканию великолепного. Сияние, омраченное дымом, прогресс, купленный ценою жестокости, не могли дать полного удовлетворения этой нежной и серьезной душе. Стремительное вторжение народа в истину, новый 1793 год пугал его; однако застой отвращал его еще больше — он чуял в нем гниение и смерть. Он предпочитал пену миазмам, поток — клоаке, Ниагарский водопад — Монфоконскому озеру. Он не хотел ни остановки, ни торопливости. И в то время как его пылкие друзья, рыцарски влюбленные в абсолютное, боготворили великие революционные движения и желали бы вызвать их, Комбферр стоял за прогресс, за надежный прогресс, может быть холодный, но зато чистый, методический, безупречный, слишком спокойный, но непоколебимый. Комбферр готов был молить на коленях, чтобы будущее наступило во всей чистоте и чтобы ничто не нарушало великой незапятнанной эволюции народов. "Нужно, чтобы добро было безупречно", — часто повторял он. И на самом деле, если величие революции состоит в том, чтобы, видя перед собою ослепительный идеал, стремиться к нему среди молний, с обагренными кровью руками, то красота прогресса заключается в незапятнанной чистоте. Между Вашингтоном, воплощением первого, и Дантоном, олицетворением второго, существует такая же разница, как между ангелом с белоснежными крыльями лебедя и ангелом с орлиными крыльями.
Жан Прувер был еще мягче Комбферра. Он назывался Жеганом по той мимолетной прихоти, которая пристала к могущественному и глубокому движению, вызвавшему столь необходимое изучение Средних веков. Жан Прувер был влюблен, ухаживал за цветами, играл на флейте, писал стихи, любил народ, жалел женщину, плакал над ребенком, одинаково верил в Бога и в будущее и осуждал революцию за то, что по ее вине пала царственная голова — голова Андре Шенье*. Голос его, обыкновенно мягкий, иногда становился мужественным. Он читал так много, что стал ученым и ориенталистом. Вместе с тем он был добр и — вещь, понятная для того, кто знает, как много общего между добротой и величием — предпочитал в поэзии необъятное. Он знал языки: итальянский, латинский, греческий, еврейский, но пользовался ими лишь для того, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исайю*. Из французских писателей он ставил Корнеля выше Расина и Агриппу Д′Обинье* выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим овсом и васильками, облака занимали его столько же, сколько и события. У его ума были, так сказать, две стороны: одна, обращенная к человеку, другая — к Богу; он или исследовал, или созерцал. Целыми днями он изучал социальные науки. Его интересовали вопросы заработной платы, капитала, кредита, брака, религии, свободы мысли, свободы любви, образования, бедности, ассоциации, собственности, производства и распределения; он старался разгадать загадку низших классов общества, застилающую тенью весь человеческий муравейник. А по вечерам он смотрел на звезды, на эти громадные светила. Прувер, как и Анжолрас, был богат и единственный сын. Он говорил тихо, опустив голову, потупив глаза, краснел из-за всякого вздора, улыбался натянуто, одевался плохо, был неловок и очень застенчив, но вместе с тем смел.
Фейи был рабочий-веерщик. Круглый сирота, он с трудом зарабатывал три франка в день и лелеял одну заветную мечту — освободить весь мир. У него, впрочем, была еще одна забота — самообразование; это он тоже называл освобождением. Он самостоятельно выучился читать и писать: все свои знания он приобрел сам. У Фейи было великодушное сердце и широкий кругозор. Этот сирота усыновил народы. У него не было матери — он заменил ее родиной. Он хотел, чтобы на земле не было ни одного человека, лишенного отечества. С глубокой проницательностью простолюдина он уяснил себе и таил в душе то, что мы называем теперь идеологией национальностей. Он изучил историю специально для того, чтобы иметь основание для негодования. В этом кружке утопистов, занятых главным образом Францией, он один изображал собою космополитизм. Его занимали Греция, Венгрия, Румыния, Италия. Он кстати и некстати упоминал о них с упорством, вытекающим из чувства справедливости. Турция захватила Грецию и Фессалию, Австрия — Венгрию, — все эти насильственные захваты раздражали его.
Таков был обычный разговор Фейи. Этот бедный рабочий взял под свою опеку справедливость, и она вознаграждала его, придавая ему величие. В самом деле, справедливость вечна. Рано или поздно затопленная страна выплывает и снова показывается на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест справедливости против насилия не умирает. Кража целого народа не знает срока давности. Такие крупные мошенничества не прочны. С целой нации нельзя спороть метку, как с носового платка.
У Курфейрака был отец, г-н де Курфейрак. Одним из превратных понятий буржуазии времен Реставрации относительно аристократии и дворянства была вера в частичку "де". Эта частичка, как известно, не имеет никакого значения. Но буржуа времен "Минервы" ставили это жалкое "де" так высоко, что считали долгом отказываться от него. Так, де Шавелен хотел, чтобы его звали просто Шавеленом, де Комартен — Комартеном, де Констан, де Ребекк — Бенжаменом Констаном, де Лафайет — Лафайетом. Де Курфейрак, не желая отстать от других, тоже назывался просто Курфейраком.
Относительно Курфейрака-сына нам достаточно было бы сказать: Курфейрак, см. Толомьес.
Курфейрак действительно обладал тем пылом юности, который можно назвать молодостью и свежестью ума. Позднее это проходит, как миловидность котенка, и двуногое существо превращается в буржуа, а четвероногое — в кота.
Такого рода ум переходит у молодежи из поколения в поколение, передается из рук в руки, почти в одном и том же виде. А потому всякий, услышав Курфейрака в 1828 году, мог подумать, что слышит Толомьеса в 1817-м. Только Курфейрак был честный малый. Несмотря на кажущееся наружное сходство, разница между ним и Толомьесом была, в сущности, очень велика. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке — паладин.
Анжолрас был вождь, Комбферр — вожак, Курфейрак — центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла. Дело в том, что главными качествами его характера были открытость, приветливость, доброта.
Багорель принимал участие в кровавом возмущении в июне 1822 года по случаю похорон юноши Лаллемана.
Багорель был весельчак, далеко не безупречного поведения, страшный мот, расточительный, но иногда великодушный, болтун, иногда красноречивый, смельчак, иногда доходящий до наглости, и добряк, каких мало. Он носил самых ярких цветов жилеты и придерживался самых красных убеждений, был буян в широких размерах, то есть любил ссору, больше ссоры — возмущение, а больше возмущения — революцию, был всегда готов разбить стекло, потом повытаскивать камни из мостовой, а затем свергнуть правительство, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Уже одиннадцатый год числился он студентом, интересовался правом только издали, не изучая его. Он взял себе девиз: "не быть адвокатом", а в качестве герба — ночной столик, на котором лежал колпак. Каждый раз как ему случалось проходить мимо школы правоведения, что бывало очень редко, он доверху застегивал редингот — пальто в то время еще не было изобретено — и принимал гигиенические предосторожности. Про портал школы он говорил: "Какой красивый старик!", а про декана Дельвенкура: "Какой монумент!" Багорель пользовался лекциями только как сюжетом для песен, а профессорами — как моделями для карикатур. Он проживал, ничего не делая, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Своим родителям, крестьянам, ему удалось внушить уважение к их сыну.
— Это крестьяне, а не буржуа, — говорил он про них, — вот почему они умны.
Как человек непостоянный, Багорель посещал разные кафе. У других были привычки, у него — нет. Он любил фланировать. Бродить свойственно человеку, фланировать — парижанину. В сущности, Багорель обладал проницательным умом и был гораздо глубокомысленнее, чем казался с вида.
Он служил как бы связью между "Друзьями Абецеды" и другими, еще бесформенными, кружками, которые должны были возникнуть позднее.
В этом собрании молодых голов была одна лысая.
Маркиз д′Аварэ, которого Людовик XVIII сделал герцогом за то, что тот помог ему сесть в наемный кабриолет в тот день, как он эмигрировал, рассказывал, что в 1814 году, когда Людовик вернулся во Францию и выходил на берег в Кале, какой-то человек подал ему прошение. "Чего вы просите?" — спросил король. "Почтовое бюро, ваше величество". — "Как ваша фамилия?" — "Легль".
Король нахмурил брови, взглянул на подпись в прошении и прочитал фамилию, написанную не l′Aigle {Орел (фр.).}, a Lesgle. Эта совсем не бонапартистская орфография тронула короля, и он начал улыбаться.
"Ваше величество, — сказал человек, подавший прошение. — Мой предок был псарь, по прозванию Легель. От этого прозвища произошла моя фамилия. По-настоящему меня зовут Легель, в сокращении Lesgle, в искажении L′Aigle".
Король продолжал улыбаться.
Впоследствии он дал Леглю почтовое бюро в Mo, вспомнив о встрече или случайно, — не известно.
Лысый член общества "Друзей Абецеды" был сын этого Легля и подписывался "Легль из Mo". Товарищи называли его для краткости "Боссюэтом".
Боссюэт был неудачник, но неудачник веселый. Особенность его состояла в том, что ему ничто не удавалось. Зато он и смеялся над всем. В двадцать пять лет он был уже лысый. Отец его в конце концов нажил дом и землю. А он, сын, поспешил как можно скорее развязаться с этим имуществом, впутавшись в какую-то сомнительную спекуляцию. И у него не осталось буквально ничего. У него были знания и ум, но ему не везло. Ничто не удавалось ему, все обманывало его, все его начинания рушились. Если он рубил дрова, то непременно ранил себе палец. Если у него была любовница, он скоро открывал, что у нее есть и приятель. Каждую минуту случалась с ним какая-нибудь беда, но он не унывал и был всегда весел. "Я живу под крышей, с которой постоянно валится черепица", — говорил он. Без особого удивления, так как никакая неудача не была для него непредвиденной, он спокойно принимал удары судьбы и смеялся над ее нападками, как над забавными шутками. Кошелек его был пуст, но зато запас веселости никогда не истощался. Часто сидел он без единого су, но никогда не случалось, чтобы он терял свои веселый смех. Когда беда приходила к нему, он дружески кивал ей, как старой знакомой, хлопал по плечу катастрофу. Он так близко сошелся с невзгодами, что называл их уменьшительным именем. "Здравствуй, невзгодушка", — говорил он.
Постоянные преследования судьбы сделали его изобретательным. Он был необыкновенно находчивым и изворотливым. У него совсем не было денег, а между тем он находил возможным делать когда заблагорассудится "безумные траты". Раз он даже дошел до того, что истратил сто франков на ужин с какой-то девицей и среди оргии вдохновенно произнес достопамятные слова: "Ну-ка, пятилуидоровая девица, стащи с меня сапоги!"
Боссюэт изучал право по способу Багореля и потому очень медленно продвигался к адвокатской профессии. Он редко бывал дома, иногда у него даже совсем не было квартиры. Он жил то у одного товарища, то у другого, чаще всего у Жоли, который был на два года моложе его и изучал медицину.
Несмотря на свою молодость, Жоли представлял собою тип мнимого больного. Занятия медициной послужили ему к тому, что он сам стал больным, а не врачом. Ему было только двадцать три года, а между тем он находил у себя всевозможные болезни и целыми днями рассматривал в зеркало свой язык. Он утверждал, что человека можно намагничивать, как иголку, и ставил свою постель головой к югу, а ногами к северу, чтобы великий магнетический ток земного шара не нарушил его кровообращения. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Но в сущности это был самый веселый из всех членов кружка. Все эти несообразности — молодость и мания, воображаемая болезненность и веселость — отлично уживались вместе, а в результате получалось преэксцентричное и премилое существо, которое товарищи, щедрые на крылатые согласные, называли Жолллли.
— Ты можешь улететь на четырех л {Ailes — крылья (фр.).}, — говорил ему Жан Прувер.
У Жана была привычка дотрагиваться тростью до кончика носа, что служит признаком проницательного ума.
У всех этих столь непохожих друг на друга молодых людей, к которым нужно в сущности относиться вполне серьезно, была одна религия — прогресс. Все они были настоящими сынами французской революции. Самые легкомысленные из них становились серьезными, говоря о 1789 годе. Отцы их по плоти были или оставались и до сих пор фельянами, роялистами, доктринерами, но это не имело никакого значения.
Образовав общество, они втайне созидали идеал.
Среди всех этих пылких сердец и убежденных умов был один скептик. Как попал он сюда? По контрасту. Этого скептика звали Грантэром, и он обыкновенно подписывался Ребусом Р (большое р).
Грантэр остерегался верить во что бы то ни было. Он принадлежал к числу студентов, научившихся многому во время прохождения курса в Париже. Он знал, что самый вкусный кофе подается в кафе Ламблен, что лучший бильярд находится в кафе Вольтер, самые лучшие галеты и самые добрые девушки в Эрмитаже, на бульваре Мэн; великолепные цыплята у тетушки Саге, чудесная рыба по-флотски — у заставы Кюнет и очень недурное белое вино — у заставы Комба! Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, он умел танцевать, отлично дрался на палках и был далеко не прочь выпить. Внешне он был страшен, как смертный грех. Ирма Буасси, самая хорошенькая гризетка того времени, была возмущена его безобразием и объявила такой приговор: "Грантэр невозможен!" Но самодовольство Грантэра не знало колебаний. Он нежно и пристально глядел на всех женщин с таким видом, как будто говорил: "Если бы я только захотел!" — и старался уверить товарищей, что все они от него без ума.
Такие понятия, как "права народа, права человека, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс", не имели почти никакого значения для Грантэра. Он усмехался, слыша их. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставила ему ни одной цельной мысли. Ко всему в жизни он относился с иронией. "Только одно достоверно, — утверждал он, — мой полный стакан". Это была его аксиома. Он глумился над самоотвержением, в какой бы партии ни встречал его, и одинаково подсмеивался над Робеспьером-младшим* и над Луазеролем. "Они много выиграли тем, что умерли", — говорил он. Гуляка, игрок, кутила, часто пьяный, он, к досаде юных мечтателей, постоянно напевал песню: "Я люблю девушек и хорошее вино" на мотив "Да здравствует Генрих IV".
Впрочем, и этот скептик был в одном отношении фанатиком. Он относился с фанатизмом не к идее, не к догмату, не к искусству, не к науке, а к человеку. Этот человек был Анжолрас. Грантэр восхищался им, любил его и благоговел пред ним. И к кому примкнул этот сомневающийся анархист из всей фаланги абсолютных умов? К самому абсолютному. Чем же покорил его Анжолрас? Идеями? Нет. Своим характером. Подобное явление наблюдается часто. Скептик, льнущий к верующему, — это так же естественно, как закон дополнительных цветов. То, чего недостает нам самим, притягивает нас. Никто так не любит дневного света, как слепой. Карлица боготворит тамбурмажора. У жабы глаза всегда глядят вверх. Для чего? Чтобы смотреть на летающую птицу. Грантэр, которого мучило сомнение, любил смотреть на парящую в Анжолрасе веру. Анжолрас был необходим ему. Эта целомудренная, здоровая, твердая, прямая, суровая, искренняя натура очаровывала его, хоть он и не отдавал себе в этом ясного отчета и даже не старался объяснить себе причину этого. Он инстинктивно восхищался совершенно противоположным ему по характеру человеком. Его вялые, колеблющиеся, бессвязные, больные идеи искали опору в Анжолрасе. Нравственно слабый, он опирался на его силу и твердость. Только в присутствии Анжолраса Грантэр становился человеком. Впрочем, характер его состоял из двух элементов: насмешливости и сердечности. При всем своем равнодушии он мог любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без дружбы. Глубокое противоречие, так как привязанность тоже вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы созданные для того, чтобы быть изнанкой, оборотной стороной других. Это Поллуксы*, Патроклы*, Гефестионы*. Они живут лишь в том случае, если могут прислониться к другому. Имена их только продолжение другого имени, и им всегда предшествует союз "и"; они живут не своей жизнью и служат лишь оборотной стороной другого существования. Грантэр принадлежал к числу таких людей. Он был оборотной стороной Анжолраса.
Можно, пожалуй, сказать, что сродство начинается с самых букв азбуки. В алфавите О и П неразрывны. Вы можете, по желанию, произносить О и П, или Орест* и Пилад*.
Грантэр, неизменный спутник Анжолраса, принадлежал к этому кружку молодых людей. Только там он жил и чувствовал себя хорошо, а потому следовал за ними всюду. Отуманенный винными парами, он с удовольствием смотрел на их мелькающие перед ним силуэты. Его терпели за его всегда хорошее расположение духа.
Анжолрас, как верующий, презирал этого скептика и, как человек строго воздержанный, этого пьяницу. Он уделял ему лишь немного горделивой жалости. Грантэр был Пилад, которого не хотели признать. Постоянно терпя суровое обращение Анжолраса, грубо отталкиваемый и снова возвращающийся, он говорил про Анжолраса: "Какой прекрасный мрамор!"
© «Онлайн-Читать.РФ», 2017-2024
Обратная связь